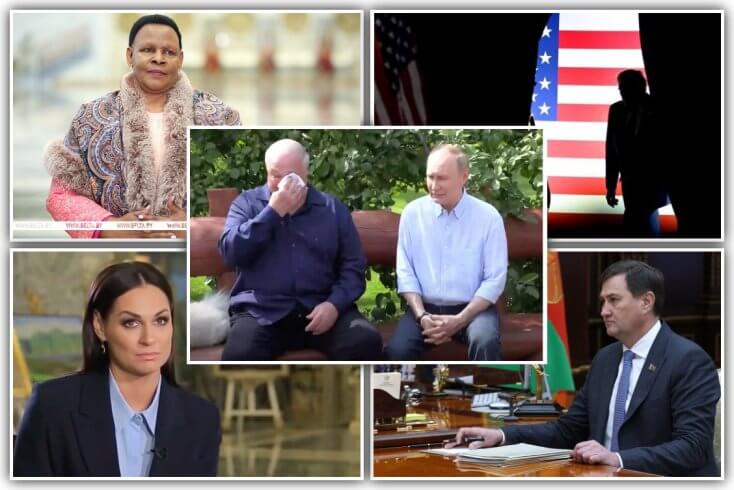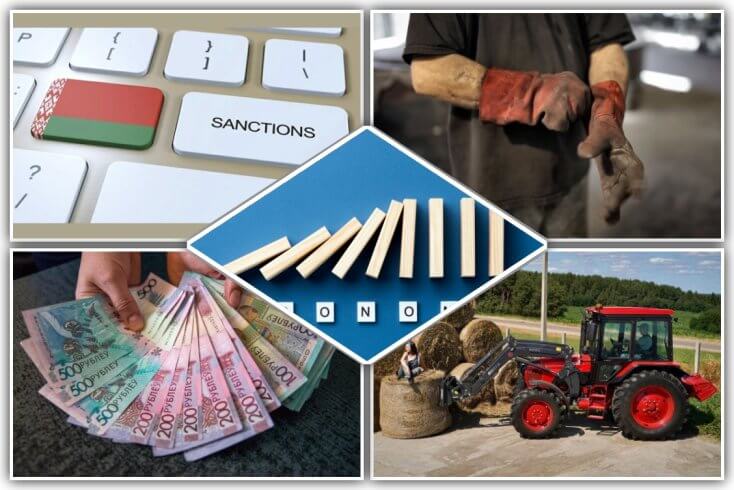Пантеон, который понравится Кремлю. Без Калиновского и Быкова. Каких героев прошлого выбирает Лукашенко
Опубликовано на открытой версии “Позірку“ 6 октября 2025 года в 10:10

Режим Александра Лукашенко конструирует у населения Беларуси субнациональную идентичность периферии в рамках более широкой имперской общности России. Пантеон-2025 — один из инструментов этого конструирования.
В конце сентября белорусские власти обнародовали состав официального пантеона национальных героев — 55 исторических фигур. Они будут изображены на пяти из шести барельефов, которые расположат на фасаде строящегося нового здания Национального исторического музея.
Сформировать такой пантеон Лукашенко предложил 17 сентября на встрече с идеологическим активом, посвященной официальному Дню народного единства. Критерий отбора он сформулировал так: “…Надо понимать, кто герой, кто враг, кто внес вклад в мировую культуру, науку, историю, сохранив связь с Родиной, кто сделал то же самое, но отрекся от своей идентичности. Никого не вычеркиваем из своей истории. Но акценты должны быть сделаны четко и желательно без полумер“.
И вот представлены барельефы, охватывающие разные эпохи — от древности до современности. С конкретными персонажами: великие князья, святые, писатели, советские функционеры.
Но среди этих имен одно выделяется полной неожиданностью. На барельефе “Беларусь в V — первой половине XIII столетий“ рядом со Всеславом Чародеем, Ефросиньей Полоцкой и Кириллом Туровским — фигурами, знакомыми любому белорусу хотя бы по школьному учебнику истории, — оказался Юрий Ярославич, туровский князь, правивший в XII столетии.
Кто он такой? Не основатель династии, не автор летописей, не святой, не герой народных преданий. Просто один из десятков удельных князей, чье имя сохранилось в источниках.
А вот другой князь — Глеб Менский — в пантеон не попал. Хотя именно он после Всеслава Чародея и других полоцких и туровских правителей выглядит наиболее очевидным кандидатом. Глеб основал Минск, воевал с Владимиром Мономахом, оставил след в истории. Почему его исключили? За то, что противостоял князю, почитаемому в России? А Юрия Ярославича, наоборот, возвысили за то, что какое-то время входил в близкий круг Юрия Долгорукого, основателя Москвы?
Случай с Юрием Ярославичем — это не просто курьезная ошибка или неудачный выбор. Это симптом. Симптом того, как белорусский режим пытается конструировать национальную идентичность, одновременно ее демонтируя. И чтобы понять, что стоит за этим странным пантеоном, нужно начать с главного вопроса: а что вообще такое нация и как она формируется?
Как создаются нации
Классический ответ на вопрос о формировании наций дал антрополог Бенедикт Андерсон в книге “Воображаемые сообщества“ (“Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism“, 1983), которая на протяжении 40 лет была главным теоретическим текстом о национализме. Тезис Андерсона прост и радикален одновременно: нация — это воображаемое политическое сообщество, и воображается оно как ограниченное и суверенное.
Что это значит на практике? Вы не знаете лично всех белорусов, но можете ощущать себя белорусом. Это воображенная социальная реальность, которая держится на коллективных представлениях.
Здесь важно сделать терминологическую оговорку. В книге Андерсона речь идет о nationality — гражданской идентичности, а не об ethnicity — этнической принадлежности. В английском языке эти понятия четко разделены: израильтянин (nationality) может быть евреем, арабом, друзом и т.д. (ethnicity). Гражданская идентичность не зависит от этнического происхождения.
В белорусском и русском языках такого четкого разделения нет. Слово “национальность“ может означать и гражданство, и этническую принадлежность. В советских документах была “пятая графа“ — национальность, где указывалась именно этническая принадлежность, а не гражданство. В белорусском паспорте указывается гражданство (nationality), а национальность вписывают только при большом желании гражданина.
Но как именно работает этот механизм воображения? Андерсон указывает на три ключевых инструмента: карта, музей, перепись населения. Первая создает визуальный образ территории как единого целого. Колониальные империи использовали перепись, чтобы классифицировать подданных: малайцы, китайцы, индийцы — каждый получал свою ячейку. Со временем эти ярлыки становились основой для самоидентификации. Люди начинали думать о себе как о представителях той группы, в которую их записали.
В свою очередь, музей — и здесь мы подходим к пантеону — создает нарратив общего прошлого. Он отбирает из хаоса истории определенные фигуры, события, артефакты и выстраивает их в связный рассказ: “вот кем мы были, вот кем мы стали, вот наши герои“. Это не просто хранилище старых вещей. Это машина по производству национальной идентичности.
Таким образом, пантеон национальных героев — это визуализированный ответ на вопрос “кто мы?“ Включенные в пантеон фигуры становятся точками фокусировки коллективной памяти, а исключенные — стираются или маргинализируются.
Теперь ключевой вопрос: что создает режим Лукашенко?
Это не гражданская нация, так как вопреки Конституции народ в Беларуси отстранен от власти, которую узурпировал Лукашенко. Это не этническая нация, так как возвращена русификация, а белорусский язык вновь маргинализирован, народная культура сведена к лубочным образцам а-ля “Дажынкі“.
И это не чисто имперский подход, ведь Беларусь — отдельное государство, и Лукашенко управляет этой страной, хоть и с готовностью играет роль “младшего брата“ Путина.
Для чего нужны свои герои
“У нас уникальная ситуация, когда не народ создает государство, а государство должно создать народ“, — афористично заметил в 1992 году на встрече с читателями в минском Доме литератора белорусский писатель из-под Белостока Сократ Янович.
Классическая модель выглядит иначе. Возьмем Францию. Там нация формировалась через Великую революцию 1789 года, которая превратила подданных короля в граждан республики. Появилась идея суверенитета народа, единого языка, общих ценностей — свободы, равенства, братства. Французская нация строилась как политическая общность: неважно, откуда ты родом и на каком языке говорили твои предки, — если ты лоялен республике и разделяешь ее ценности, ты француз.
Немецкая модель развивалась по-другому. Германия долго оставалась раздробленной на десятки княжеств, и немецкая нация формировалась не через государственные институты, а через культуру: общий язык, литературу, философию, романтизм XIX века с его поисками “духа народа“. Здесь нация предшествовала государству — сначала немцы осознали себя единым народом, и только потом, в 1871 году, появилась Германская империя.
Но в обоих случаях — и французском, и немецком — работал один механизм: национальная идентичность строилась на героях, мифах, символах. Во Франции это Жанна д’Арк, Наполеон, деятели революции. В Германии — Фридрих Барбаросса, Мартин Лютер, Гёте, Шиллер.
Эти фигуры становились точками сборки коллективной памяти. Их имена знал каждый школьник, их портреты печатались на банкнотах, их памятники ставились в центре городов.
Беларусь: тяжелое наследие империи
Белорусская нация формировалась с запозданием, проспав европейскую “весну народов“ в XIX веке. Аристократия была либо полонизирована, либо русифицирована. Крестьяне говорили по-белорусски, но не воспринимали себя как отдельную нацию — скорее как “тутэйшых“, местных, называли себя русскими — если были православными, поляками — если были католиками.
В начале XX начала создаваться институциональная база — газеты, школы, театры, издательства, музеи. Первая мировая война на территории Беларуси сопровождалась перемещением людских масс из внутренних губерний Российской империи на фронты здесь, вывозом беженцев отсюда…
Собственно, это перемещение масс стало одним из факторов, который позволил большевикам, думавшим из российской имперской перспективы, задушить попытку самоопределения белорусского народа. Так взамен собственной Белорусской Народной Республики, чья история оказалась недолгой, большевики дали белорусам формальную государственность — Белорусскую ССР, полностью подчиненную Москве.
К концу советской эпохи белорусский язык оказался маргинализирован, а значительная часть населения считала себя частью большой советской общности с русским языком как основным.
После распада СССР Беларусь перестала быть частью коммунистической империи, но нация в полном смысле слова так и не сложилась. Белорусский национальный проект оставался слабым: язык не стал доминирующим, историческая память была расколота, единого пантеона героев не возникло.
И вот здесь начинается самое интересное. В 1994 году к власти приходит Лукашенко, и с этого момента белорусская идентичность начинает конструироваться сверху — но совершенно особым образом. Режим пытается создать такую версию нации, которая была бы удобна лично правителю и не противоречила бы его курсу на интеграцию с Россией.
Результат этого конструирования мы и видим в официальном пантеоне 2025 года. Чтобы лучше понять его специфику, нужно присмотреться внимательнее: кто включен в этот пантеон и — что не менее важно — кого там нет.
Шесть барельефов, шесть посланий
Пантеон национальных героев — это не просто список достойных людей прошлого. Это политический манифест, закодированное послание о том, каким воображаемым сообществом режим хочет видеть страну.
Барельеф 1: Догосударственный период. Собирательные образы трех племен — кривичей, дреговичей, радимичей. Это дославянская древность, представленная через этнографическую реконструкцию.
Послание: мы здесь с незапамятных времен, наши корни уходят в первобытность.
Барельеф 2: V — первая половина XIII века. Послание этого барельефа такое: белорусская история начинается с восточнославянского единства, корни — в общей колыбели Киевской Руси. Это классическая концепция “триединого русского народа“, только в мягкой упаковке.
Барельеф 3: XIII–XVIII века. Здесь самая показательная лакуна: нет ни одной фигуры, связанной с Великим княжеством Литовским, Русским и Жемойтским (ВКЛ) как государством. Витовт Великий — один из самых могущественных правителей Восточной Европы XIV–XV веков, при котором ВКЛ достигло максимальных размеров, — отсутствует. Ягайло, основатель литовско-польской унии, — тоже.
Почему ВКЛ исключено? Потому что это государство, где предки современных белорусов были политической элитой, где языком чиновников был старобелорусский, где существовала правовая традиция, отличная от московской. ВКЛ — это альтернативная история, в которой белорусы могли бы не быть частью “русского мира“. Это опасный ракурс для режима, строящего свою легитимность на интеграции с Россией.
Зато есть Франциск Скорина — но как просветитель, а не как человек европейского Ренессанса. Есть Симеон Полоцкий — но как церковный деятель, а не как интеллектуал, работавший на стыке культур. Есть Афанасий Филиппович — православный полемист.
Послание: белорусская культура XIII–XVIII веков — это православное просветительство, а не государственная традиция ВКЛ.
Барельеф 4: Конец XVIII — начало XX века.
Здесь представлен общественный и культурный цвет нации — но строго отфильтрованный. Есть классики белорусской литературы, но нет Кастуся Калиновского.
Это особенно показательно. До 2020 года Калиновский, руководитель восстания против царизма, был в школьном списке белорусских героев. В 2019 году Лукашенко даже называл его “нашим человеком“, и официальная делегация ездила в Вильнюс на церемонию перезахоронения праха повстанческого вожака. Существовал орден Калиновского.
Но после 2020 года все изменилось. Восстание 1863 года стало трактоваться как “польское и антибелорусское“, а образ Калиновского был очернен в госСМИ.
Послание: белорусская общественная мысль и культура XIX–XX веков приемлемы только в “безопасной“ версии — литература, язык, этнография. Но не политическая борьба против Российской империи.
Барельеф 5: 1917–1991 годы. Никто не сомневался, что режим строит преемственность от БССР. Нет ни одного деятеля БНР — ни Вацлава Ластовского, ни Язепа Лёсика, ни Антона Луцкевича.
Послание: советская традиция легитимна, национально-демократическая — нет.
Барельеф 6: Современный период. Здесь несколько героев Беларуси и деятелей культуры. Но показательно, кого нет: в частности, Василя Быкова — писателя, чье творчество стало символом белорусской литературы XX века, экзистенциалиста, чьи герои совершают глубокий нравственный выбор в кризисных обстоятельствах. Нет Владимира Короткевича — белорусского Сенкевича, одного из первопроходцев романтического национализма в отечественной литературе.
Почему? Потому что они “проблемные“ — слишком независимые, слишком критичные, их наследие может интерпретироваться не так, как нужно режиму.
Но не нужно гадать о причинах исключений — представители режима сами их объяснили.
Вячеслав Данилович, зампредседателя комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке, на телеканале СТВ объяснил критерии отбора предельно откровенно. По его словам, Тадеуш Костюшко неприемлем, поскольку хотя и происходил из местной шляхты, родился на территории Беларуси, но отстаивал, по сути дела, интересы польского государства и США в войне за независимость.
Калиновский, мол, тоже неоднозначная личность. Власти не вычеркивают их из истории, уточняет Данилович, но смотрят на их деятельность объективно. В пантеон должны войти только те, кто действительно достоин.
“Действительно достойны“ — кто же? Малоизвестный Юрий Ярославич, советские функционеры, православные святые, “безопасные“ культурные фигуры. Но не те, кто боролся за независимость, создавал альтернативные государственные проекты или мог бы стать символом сопротивления.
Что значат фигуры умолчания
Состав пантеона в какой-то степени можно объяснить усилением зависимости режима от Кремля после 2020 года. Лукашенко нужны фигуры, приемлемые для Москвы. Нельзя включать в пантеон тех, кто боролся против Российской империи (Калиновский), представлял альтернативную государственность (деятели ВКЛ или БНР) или мог бы стать символом сопротивления (Быков, Короткевич). Нужны “безопасные“ князья, связанные с Киевской Русью, православные святые, советские руководители.
Эта гипотеза объясняет многое, но не все. Процесс вытеснения белорусской идентичности начался задолго до 2020 года.
Политолог Валерий Карбалевич полагает, что режим расчищает поле для культа Лукашенко. Если есть яркие исторические герои, то они конкурируют с “отцом нации“. А вот если убрать их из публичного пространства, остается только один символ — сам Лукашенко как “основатель государственности“ с 1994 года. До него — либо хаос 1990-х, либо славное советское прошлое, либо туманная древность.
Эта гипотеза сильна, но она не объясняет, почему пантеон так идеально соответствует доктрине западнорусизма.
Российская империя строила эту идеологию после разделов Речи Посполитой: Беларусь — это “исконно русская земля“, белорусы — это “западные русские“, ВКЛ и Речь Посполитая — это “польское иго“, от которого Россия “освободила“ братский народ.
В XIX веке эта доктрина имела институциональную поддержку: запрет слова “Беларусь“ при Николае I, русификация школ, преследование униатов, экономическое стимулирование лояльных — православного духовенства, чиновников, интеллигенции.
В XXI веке механизм тот же, только название другое — “русский мир“. Беларусь, мол, его исконная часть, а любые попытки отдельной идентичности — это “националистический проект“, навязанный Западом.
Режим блокирует формирование национальной субъектности
И вот состав пантеона выглядит так, словно его составляли именно западнорусисты. Но значит ли это, что Лукашенко стал заложником их доктрины? Вряд ли. Все банальнее. Лукашенко нужна лояльность Кремля — пантеон, приемлемый для Москвы, помогает ее получить.
Режим создает воображаемое сообщество (в терминах Андерсона это неизбежно — любая политическая власть это делает), но это не белорусская гражданская нация в классическом понимании. Это гибридная конструкция, которая блокирует формирование полноценной национальной субъектности.
Это не государство создает нацию. Это государство конструирует воображаемое сообщество особого типа — субнациональную идентичность периферии в рамках более широкой имперской общности. Официальный пантеон — один из инструментов этого конструирования, музейная машина по производству не белорусской, а “западнорусской“ памяти.