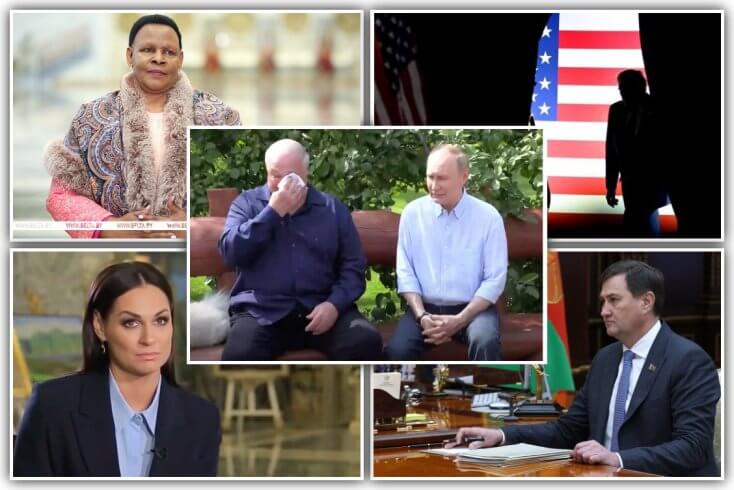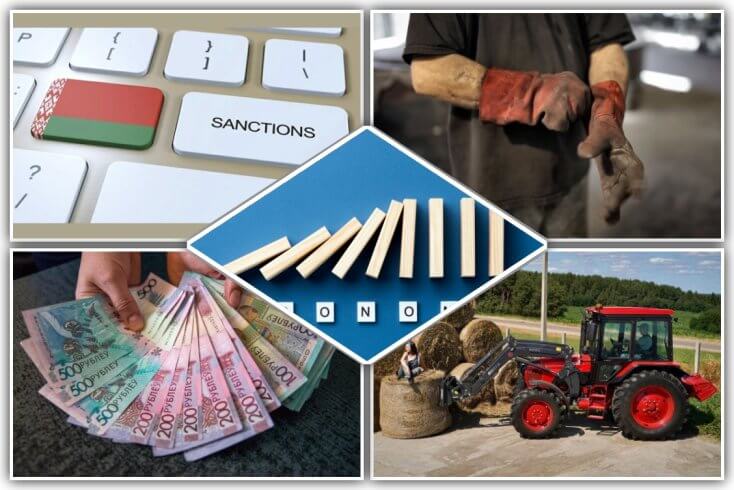Опубликовано на открытой версии “Позірку“ 23 июля 2025 года в 11:33

В 2024 году белорусская экономика демонстрировала чудеса роста. В отчетах и телевизионных сюжетах — уверенные темпы промышленного производства, рекордная прибавка ВВП. Однако уже весной нынешнего года вылезла суровая реальность: склады набиты непроданной продукцией.
В погоне за красивой цифрой
Проблема избыточных запасов отнюдь не нова для белорусской промышленности. В разные годы наращивание складских остатков уже становилось побочным эффектом административных гонок за красивыми показателями.
Но в этот раз характер проблемы иной: за последние полтора года не только выросли абсолютные объемы непроданных товаров, но и изменилась сама среда, в которой белорусская промышленность пытается выживать.
Официальная статистика за июнь говорит сама за себя: запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий превысили 11,5 млрд рублей — это исторический максимум за последние пять лет.
Отношение запасов к среднемесячному объему производства по стране достигло 83,7% (для сравнения: в июле 2024 года — 61,5%). В ряде регионов, например в столице и Минской области, отношение складских запасов к производству и вовсе перевалило за 100%. То есть на складах лежит продукции больше, чем производится за месяц.
Как и зачем надували промышленную статистику в 2024-м
Год 2024 запомнится как эпоха “административных чудес“: высокие темпы роста экономики удавалось демонстрировать за счет простого, но эффективного трюка — производства “впрок“.
Власти не скрывали своей ориентации на быстрый рост промпроизводства, вот только реализация продукции на рынке оставалась под вопросом.
Подобная практика — привычный административный прием, особенно в условиях, когда рыночные механизмы подменяются ручным управлением.
Формально — план выполнен, страна снова вошла в число “лидеров“ по динамике, можно отчитаться на совещаниях и создать красивый фон в новостях. Фактически — значительная часть прироста ушла не к потребителю, а на склады.
В результате уже весной 2025 года они оказались забитыми, а проблема стала видна невооруженным глазом.
Запас беды не чинит? Как сказать
Если взглянуть на динамику соотношения запасов и среднемесячного объема производства за последние два года, то картина очевидна.
- Июнь 2022 года: по стране этот показатель держался в районе 72%.
- Июнь 2023 года: он поднялся лишь до 73% — перед периодом “распродаж“ на фоне роста спроса на российском рынке.
- Июнь 2024 года: показатель снизился до 64%.
- Июнь 2025 года: показатель резко вырос до 84%.
По абсолютным значениям запасов ситуация еще нагляднее.
- Июнь 2022: года запасы составляли 7,9 млрд рублей.
- Июнь 2023 года: выросли до 8,7 млрд рублей.
- Июнь 2024 года: удержались на уровне 8,8 млрд рублей.
- Июнь 2025 года: выросли до 11,6 млрд рублей.
Причем заметнее всего запасы росли в Минской области и Минске, где сконцентрирована значительная часть промышленного потенциала страны.
Неэффективная политика, иллюзия экспортных успехов
Главная причина — в специфике производственной и экспортной политики последних лет. Ставка была сделана не на комплексную работу над расширением рынков, повышением качества и инновационности продукции, а на количественный показатель: сколько произвели, а не сколько реально нужно и можно продать.
Но, кажется, о проблемах такого подхода начали догадываться. И вот уже в недавнем интервью новый министр промышленности Андрей Кузнецов говорит: рынкам нужно “предлагать то, что нужно, а не то, что мы производим“.
Год 2024 стал особенно показательным. После шоков 2022–2023 годов, связанных с санкциями и перестройкой логистики, белорусская промышленность получила специфическое окно возможностей на российском рынке, который переживал собственную трансформацию из-за ухода западных конкурентов.
В этот период на склады отправлялось всё что можно — в надежде, что завтра это удастся продать в Россию или через сложные схемы экспорта в третьи страны.
Однако и этот спрос оказался временным. Российский рынок начал насыщаться китайской продукцией, а платежеспособный спрос — снижаться по мере роста расходов на войну и стагнации гражданских отраслей.
Кроме того, российские потребители по-прежнему часто выбирают западную продукцию, пусть даже завезенную через параллельный импорт и заметно более дорогую, а не товары “советского качества“, к которому привыкли в Беларуси.
Чиновники в поиске новых рынков
Очевидно, что наверху видят ситуацию. Одна из ключевых задач властей сейчас — найти новые рынки сбыта, будь то регионы России или страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Однако эти попытки пока напоминают лихорадочный поиск выхода, а не стратегическую политику. Если продукцию и удается пристроить, то часто — с большими уступками по цене и объемам, а то и вовсе финансируя экспорт за счет кредитов белорусских банков зарубежным покупателям.
И, пожалуй, впервые за последние годы склады белорусских предприятий действительно рискуют остаться заполненными надолго.
Нет ни новых ковидных волн с ростом спроса на всё, ни уникальных ситуаций на российском рынке, когда продукцию скупали на фоне дефицита, ни новых рынков, “где нас не знают, где нас ждут“ (кто не в курсе: это ставшая в свое время мемом фраза Александра Лукашенко).
Сейчас Россия сама сталкивается с замедлением экономики и переключением ресурсов на военные нужды, а гражданский сектор, для которого производят большинство белорусских товаров, начинает ощутимо проседать.
Региональный разрез: у кого проблемы больше
Если вернуться к белорусским проблемам, то интересен и региональный срез. Лидеры по росту запасов — Минская область и столица, где сосредоточены машиностроение, производство техники, приборов и другой сложной продукции. Здесь соотношение запасов к среднемесячному производству за год выросло с 101% до 115%.
В Брестской, Гродненской и Витебской областях ситуация чуть лучше, но тренд тот же — склады заполняются быстрее, чем происходит реализация.
Промышленные гиганты, на которые делалась ставка в 2024 году, сегодня работают во многом на склад. И здесь уже начинают проявляться эффекты: сокращение новых заказов, вынужденные простои, угроза невыполнения зарплатных обязательств, роста дебиторской задолженности.
В собственной ловушке
Ситуация с избыточными запасами — это не просто технический момент или “затоваривание по недосмотру“. Это индикатор системного кризиса промышленной политики.
Административная гонка за красивыми показателями всегда превращается в отложенную проблему, которую в условном завтра непременно придется решать за счет сокращения производства, увольнений и поиска хоть какого-то рынка сбыта.
Эксперты не раз говорили, что если не изменить сам подход к развитию белорусской промышленности, не уйти от “советской“ модели производства ради галочки, не ставить во главу угла реальную конкурентоспособность, — такие кризисы будут повторяться.
Подобные проблемы вовсе не уникальны, они типичны для экономик с командным управлением и в целом для авторитарных моделей.
Такая система неизбежно попадает в собственную ловушку: если она существует достаточно долго, то рано или поздно ей приходится жестко сталкиваться с теми структурными проблемами, которые откладывались в долгий ящик.
Сегодня белорусская экономика находится именно в этой точке — когда “отложенные“ трудности игнорировать больше не удается.